Как воронежцы строили Байкало-Амурскую железную магистраль, ставшую символом эпохи
50 лет назад, в 1974 году, вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 561 «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». БАМ называли стройкой века. Молодые и энергичные люди ехали туда не столько ради заработка, сколько проверить себя в суровых условиях Севера. О том, чем встречала романтиков тайга, какие трудности преодолевали строители железной магистрали, что собой представлял их быт, вспоминает Михаил Гвоздь, который отправился на великую стройку Советского Союза, из Воронежа – в неосвоенную тайгу, чтобы строить магистраль века.
В начале 70-х сразу после окончания Воронежского политехнического института я успел поработать в КБ автоматизированных систем управления и даже получить, как конструктор первую категорию. Карьера шла вверх, но надо было искать возможности для улучшения жилищных условий: у меня уже была семья, родилась дочь. Старый знакомый Лёня Нестеров, мы с ним учились в одной школе и на одном факультете института, в это время был секретарём Коминтерновского райкома ВЛКСМ. В поисках решения вопроса обратился к нему за помощью и узнал, что Леонид отправляет на строительство Байкало-Амурской магистрали очередную группу комсомольцев, а везти её некому. Это было в 1978 году, когда стройка БАМ уже четыре года, как гремела по всей стране. Я предложил свою кандидатуру с условием, что он и меня выпишет комсомольскую путёвку. Таков был мой путь в таёжный край, где наши земляки — ребята из Воронежской области – строили станцию Муртыгит.
БАМ строила вся страна
Представители каждой области, каждой союзной республики должны были построить на магистрали одну или две станции. Накануне зону, прилегающую к будущей железной дороге, обследовали геологи. По отметкам геодезистов рубилась просека к местам будущих разъездов и станций. Бригада лесорубов медленно, километр за километром, шла вперёд, передвигая за собой на бульдозере или трелёвщике вагон-бытовку на полозьях. В ней лесорубы отдыхали, спали, готовили на буржуйке пищу. Следом за ними шли бригады взрывников, готовя в скальном грунте карьеры для механизаторов. Мехколонны делали отсыпку мест возведения станций и размещения временных посёлков строителей. Монтёры делали выправку пути, устраняя неизбежные при вечной мерзлоте просадки. Связисты ставили столбы и тянули провода для управления движением составов поездов.
Однажды в районе посёлка Восточный рабочие наткнулись на штабеля круглого леса, изъеденного короедом, и бетонную площадку, наверное, для пилорамы, где в бетоне был указан 1939 год. Это было напоминание, что дорогу до войны строили заключённые БАМлага.
Построив все объекты, станции и разъезды на определённом участке дороги и сдав их заказчику, строители шли дальше навстречу друг другу: от Тынды на запад, а от Тайшета на восток. Восточную часть магистрали от Тынды до Комсомольска-на-Амуре вели военные строители вместе с шефами, строившими гражданские объекты, станционные посёлки.
Паяльные лампы для мотора
Большое внимание уделялось подготовке техники к эксплуатации в зимних условиях. Горе тому водителю, который осенью перед рейсом не поменял летнюю солярку на зимнюю. Кроме обычных процедур замены топлива и заливки в радиаторы антифриза, машины утеплялись. На переднее и боковое стёкла при помощи обычного пластилина наклеивались вторые стёкла. Дело в том, что обогреть их стандартными автомобильными печками в зимнюю стужу не представлялось возможным, а пластилин на морозе становился твёрдым как камень и надёжно удерживал второй слой стёкол.
Выхлопные трубы автобусов и автомобилей к зиме удлинялись и выводились выше крыши и кузовов, так как нагретый газ выхлопа создавал плотное туманное облако, за которым ничего не было видно едущим следом. Зимой морозный туман ещё и смешивался с дымом многочисленных котелен — при безветренной погоде облако смога висело над городом. Каждый водитель всегда имел две паяльные ламы, и прежде чем завести мотор и начать движение, разогревал ими мосты автомобилей.
«Пушкинский вагончик»
В качестве жилья я получил новенький «пушкинский вагончик», специально спроектированный для жизни в условиях Севера. Он был изготовлен в подмосковном городе Пушкино, откуда и такое название. Внутри вагончик состоял из трёх отделений: небольшого тамбура, кухни, похожей на укороченное купе, где посредине располагался откидной столик, а по бокам — откидные сиденья, и спального помещения на четыре места. Внутренняя отделка стен была из пластика, как в железнодорожных вагонах. Отапливалось жилище небольшим электрическим котлом и радиаторами вдоль одной стены. Небольшие окна также располагались лишь по одной стене. Вагончик был на колёсах, так что его перемещение не вызывало сложностей.
Столица БАМа
Молодой город Тында (этот статус был получен в 1975 году) делился на две части — старую, состоящую из почерневших от времени рубленных деревянных домов, и новую — расположенную вдоль дороги до речки Тында. Единственным двухэтажным кирпичным строением в старом посёлке было здание горкома КПСС. В новой части города можно было увидеть целые улицы из домов быстровозводимых щитосборных конструкций, а также из вагончиков различных видов.
Улицы называли в честь тех мест, откуда приехали строители. Но были и оригинальные названия. Например, улица из жилых вагончиков бочкообразной формы называлась улицей Диогенов. Центр временного посёлка — улица Торговый ряд — начиналась от кинотеатра «Юность» и спускалась к речке Тында, магазины и кинотеатр также были смонтированы из быстровозводимых щитосборных конструкций.
В магазинах было всё, что продавалось в Москве, за исключением спиртного — на стройке действовал сухой закон. По субботам и воскресеньям жители Тынды на служебных автобусах или пешком направлялись в тайгу для сбора даров природы: грибов, жимолости, малины, голубики, клюквы, брусники и моховки – разновидности смородины.
Кроме тихой охоты в тайгу ходили и за живностью. Охотники весной и осенью на реках и озёрах стреляли водоплавающую дичь, уток, гусей, а зимой – глухарей и полярных куропаток. Работавшие на стройке местные жители разбивали отпуск на две части ради весенней и осенней охоты.
Со временем Тында превратилась в красивый город в тайге. С современными девятиэтажными и шестнадцатиэтажными жилыми домами, детсадами и школами, поликлиникой, торгово-общественным центром, объединившим киноконцертный зал, универмаг, библиотеку и гостиницу. Тынду стали называть столицей БАМа.
В качестве гостей её посещали олимпийские чемпионы, артисты театра и кино, давали концерты ансамбли «Самоцветы», «Верасы», Иосиф Кобзон, получивший впоследствии звание почётного жителя города Тынды.
Хочешь выжить — помогай другому
Цели у людей, стремившихся на БАМ, были разные. Кто-то приезжал для того, чтобы заработать на машину и сразу же вернуться домой. Таких называли «первопроходимцами». Но не они были героями стройки. Большинство комсомольцев ехали на БАМ, чтобы участвовать в грандиозном событии, проверить свой характер и свои возможности в экстремальных условиях жизни и работы. Мы создавали БАМ, а БАМ создавал нас.
Мало кто из жителей центральной и южной части СССР (в обиходе материк) представлял себе, как перемещаться по городу при температуре ниже минус сорока градусов. Мало кто был готов к бытовым трудностям. Тем более — к опасностям, таившимся в дикой природе здешних мест. Так, по дороге в Нерюнгри водитель «КАМАЗа» рассказывал мне о перевалах, которые порой даже в июне переметает снегом. Проехать такие участки пути без тяжёлой техники, расчищающей дорогу, просто невозможно. Бывали случаи, когда машины срывались в пропасть или водители замерзали в них, если помощь не успевала вовремя. От него я услышал неписаное правило: «Если хочешь выжить в тайге, всегда помогай другому».
«Золотое звено»
В мае 1984 года я принимал участие в митинге, посвящённом укладке «серебряного звена» БАМа на границе Бурятии, Якутии и Амурской области. Летом того же года в восточной части БАМа на разъезде Мирошниченко военными строителями было уложено «золотое звено». И вот свершилось: 29 октября, в день рождения ВЛКСМ, на разъезде Балбухта было уложено последнее «золотое звено». Железнодорожный путь длиною более трёх тысяч километров был построен. Было ещё много работы по доведению магистрали до технического состояния и сдачи Министерству путей сообщения.
Укладка «золотого звена» БАМа стала символическим окончанием грандиозной стройки. В постоянную эксплуатацию в объёме пускового комплекса магистраль была сдана лишь спустя пять лет, в ноябре 1989 года. А самый сложный объект стройки, Северо-Муйский тоннель протяжённостью более 15 км, был сдан в эксплуатацию только в декабре 2003 года.
Самое читаемое
Евгений Плющенко сообщил тревожные новости о Елене Костылевой
Тело 18-летнего парня нашли под окнами жилого дома
Воронежский «Факел» победил в первом спарринге на сборах в Турции
Ракетную опасность объявили в Воронежской области
Святая вода на Крещение: где набирать, как пить и хранить, рассказывает священник
Воронежского кондитера засудили за торты с героями «Ну, погоди!»
Жильцы дома в Воронеже скинулись на премию дворнику и уборщице
Евгений Плющенко сообщил тревожные новости о Елене Костылевой
Спецпроект «TV Губернии». «Незнакомый город» – Борисоглебский Дом ремесел
Читайте также
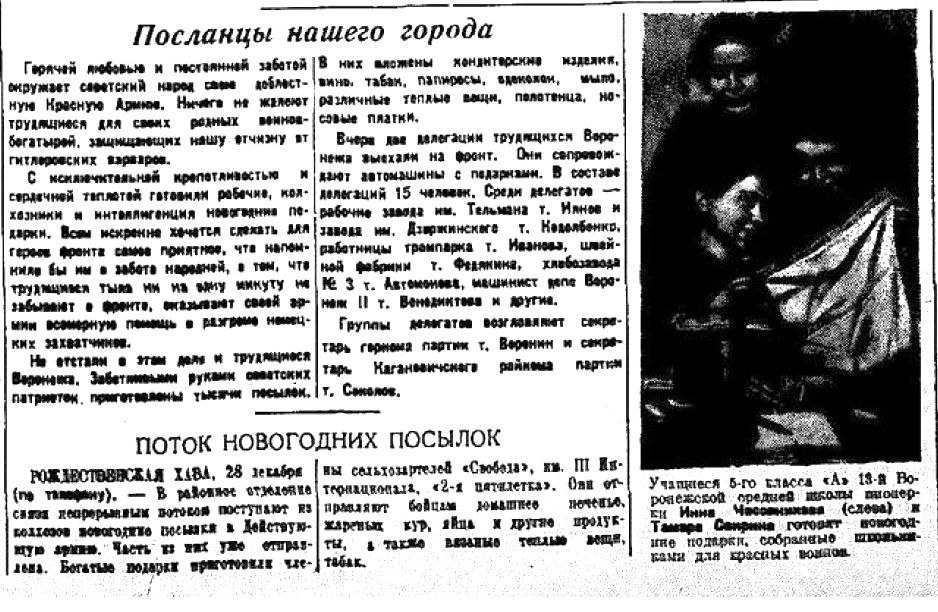
Спецпроект «TV Губернии». «Незнакомый город» – новогодние выпуски газеты «Коммуна»
11:32 31.12.2025
1
12862
Все новости
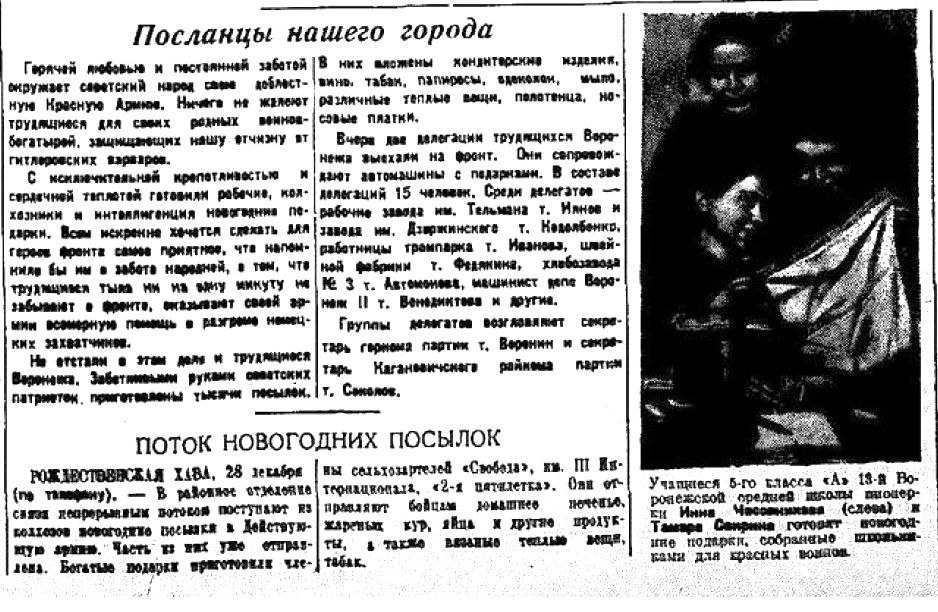


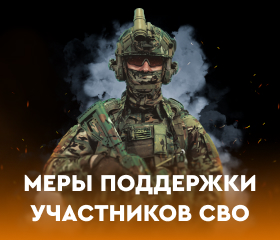

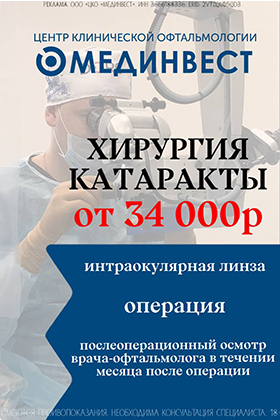








Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных и правилами общения на сайте tv-gubernia.ru. Чтобы отслеживать ответы и реакции пользователей на ваши комментарии, необходимо авторизоваться.