Легендарный танцовщик из Воронежа: «Я учился у всех и у каждого: у хороших и плохих»
С утра – на уроки
Как обычно, он вошёл в репетиционный зал в начале десятого. В зеркалах зала отражались три фигуры: Антона Пестехина, Заслуженного артиста России Михаила Негробова и японца Ацунори Ота. Они пришли раньше всех, чтобы размяться, пока никого нет. Но уже к десяти был полный сбор. У станка – не протолкнуться. Вокруг, куда ни взглянешь, гибкие абрисы тел, стройные ноги, поднятые головы, в позах – покой, безмятежность и лёгкий шорох болтовни.
Головань энергично прошёл в центр зала. Шум тут же стих.
– Что же, покажем движение как процесс, а не как итог, – сказал он простецки, с большой долей обыденности.
То, что у балетных называется «класс» или «урок», набирало обороты.
– Это не урок в том понимании, когда он проводится для студентов хореографического училища, – говорит Анатолий Петрович. – Я работаю с профессиональными артистами, поэтому речь не идёт об овладении какими-то первоначальными приёмами. Здесь всё другое и по-другому. Стараюсь на профессиональном фундаменте расширить танцевальные возможности артистов, их исполнительскую технику.
Он каждый раз идёт в класс, ясно представляя, какие движения классического танца в простых и сложных комбинациях включит в сегодняшнее занятие.
– Как можно определить суть, основное составляющее педагога-репетитора? – спрашиваю Голованя.
– Лучше, чем Асаф Мессерер, выдающийся хореограф, воспитавший целую плеяду звёзд балета, наверное, и не скажешь. Поэтому повторю вслед за ним: «Чёткий замысел каждого тренировочного занятия, изобретательная разработка хореографической темы урока и, безусловно, его художественная направленность, – вот основное в творческом методе педагога-хореографа», – делится Анатолий Петрович.
Когда ещё была река
Мы шли с Голованем по улице его послевоенного детства – Коммунаров, легко сбегая вниз сначала по тротуару, а затем, когда тот сошёл на нет, по проезжей части.
– Здесь за углом, в школе № 16, я окончил три класса, – словно гид, пояснял мне Головань. – В окрестных домишках, одноэтажных и зачастую деревянных, жили мои одноклассники. Обрати внимание – вот дом, принадлежавший герою войны 1812 года капитану Ивану Саввичу Мягкову.
На подходе к хореографическому училищу, расположенному на взгорке, Головань приостановился, взглянул вверх и проронил:
– Восемь лет здесь пройдено. Счастливых восемь лет. Моё почтение, Училище!
В раннем детстве неведомо откуда к нему явилось страстное желание танцевать. И это чувство не исчезало, а только усиливалось.
– На нашей улице девчонки разыгрывали самими же ими придуманные спектакли, – вспоминает Анатолий Петрович. – Из мальчишек в них участвовал один только я. Мне нравилось изображать кого-то: шута или клоуна. Само действо меня завораживало и увлекало. Ещё я очень хотел научиться играть на аккордеоне. Однажды даже взял доску и нарисовал на ней клавиши: сижу и изображаю, вроде бы как играю на инструменте. Соседи прознали о моём страстном желании музицировать, собрали деньги и купили мне Weltmeister. Это было чудо!
Головань из простой советской семьи. Отец – начальник мехмастерских на заводе железобетонных конструкций, мама – вахтёр в хореографическом училище. Там же ещё подрабатывала уборщицей. Отец увлекался спортом и приучал к нему сына. Водил его и на представления в цирк-шапито, который тогда располагался в Первомайском саду. Мама же замечательно пела и танцевала. «Думаю, эти два творческих родительских начала соединились во мне, что дало возможность возникнуть третьему – желанию и способности выразить себя в танце», – считает хореограф.
…А мы всё шли и шли вниз по улице Коммунаров. Анатолий Петрович рассказывал, как зимой по проезжей части на санях к реке свозили снег, а на обратном пути они, ребятня, цепляясь за сани, катили вверх по улице. Весной разливалась речка Воронеж – тогда водохранилища ещё не было – и порой вода доходила до окон их домика: «Откроешь окно, сидишь чай пьёшь, а вода плещется чуть ли не о подоконник». Весной, ближе к лету, соседские палисадники расцветали сиренью. Летом же главенствовала речка – все ребячьи утехи и забавы были связаны с ней.
Из записной книжки Анатолия Голованя
«Интуитивную потребность выразить себя в движении я почувствовал ещё в детстве. Эмоциональный от природы, я тянулся к спорту и искусству. Самые яркие воспоминания детства – церковь, кино, цирк и балет. Родился я в семье, не утратившей православных корней. Именно бабушка, Софья Игнатьевна, заложила во мне основы глубокой религиозности. Всю свою сознательную жизнь я постоянно ощущаю Божественное милосердие и покровительство. Ну разве не провидение Божье в том, что жил я на улице, где находилось хореографическое училище? Благодаря Его воле впервые переступил порог балетной школы и, о чудо, был принят, а потом стал солистом балета. Я не выбирал себе профессию – она выбрала меня. Увидев однажды балетный спектакль, я заразился, заболел танцем. Заболел неизлечимо. И болен до сих пор».
Из училища – сразу в солисты
Класс мальчиков подобрался на удивление способный: Толя Дубинин, Миша Лещёв, Серёжа Сидоров, Юра Масканов, Валера Антипенский и он, Толя Головань. Взял их под своё крыло педагог Виктор Евдокимович Савельев. Это о нём Головань как-то со всей категоричностью сказал: «Всё, что умею в профессии, изначально дал мне Виктор Евдокимович. В прямом и переносном смысле поставил меня на ноги и мне ноги».
Способность способностью, но трудолюбие ещё никто не отменял. Педагоги про себя вслух отмечали, что у мальчика завидное прилежание. Заметила это и педагог училища народная артистка РСФСР Набиля Валитова.
– Не знаю, по каким соображениям Набиля Галиевна взяла тогда надо мной шефство, –говорит Анатолий Головань. – Правда, потом, когда я уже пришёл в театр, она сказала, что увидела во мне прирождённого солиста. И отпускать меня куда-нибудь на сторону, в другой театр, не входило в её планы.
Так всё и вышло. Его сразу приняли солистом балета. Факт единственный, во всяком случае, в истории воронежской балетной труппы, и до сих пор никем не повторённый.
Из записной книжки Анатолия Голованя
«Мой второй педагог и наставник на профессиональной сцене, главный балетмейстер нашего театра Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР Константин Александрович Муллер, говорил мне: «Тебе дарованы художественный склад психики и предрасположенность к танцу, поэтому твоё место на сцене. Но не транжирь своё дарование понапрасну, не предавай свою судьбу». Став артистом, я обрёк себя на постоянный поиск – порой мучительный, часто кропотливый, не всегда результативный, иногда похожий на вспышку, на озарение. Мне приходилось доказывать это себе и убеждать других. Я учился у всех и у каждого: у хороших и плохих, у талантливых и не очень… И по сей день храню как завещание и такие слова Муллера: «Смысл твоей творческой жизни – в постоянном развитии. Только тогда тебе будет доступным переход от одного художественного этапа к другому. Самовыражение – вот кислород артиста».
«На оттенках классических движений»
Всё шло как по маслу. В 19 лет Головань станцевал Принца в «Лебедином озере». Были тут же у него Бирбанто и Конрад в «Корсаре», Шахрияр в «Тысячи и одной ночи», Антоний в «Антонии и Клеопатре», Базиль в «Дон Кихоте», Давид в «Гаяне», Малаец в «Песни торжествующей любви», Иванушка в «Коньке-Горбунке»… Как бы в перерыве между спектаклями в родном театре случилась у него в 1980 году поездка в Японию на Международный конкурс балета. И как результат – звание лауреата.
Событием для воронежской хореографии стала постановка балетмейстером Диной Ариповой спектакля «Песнь торжествующей любви» на музыку композитора и дирижёра Михаила Носырева по мотивам одноимённой повести Тургенева. Вещь во многом для того времени новаторская, остросовременная по форме. Говорили и то, что прежде чем приступить к репетициям, Арипова съездила в Москву к Майе Плисецкой. Советовалась с ней насчёт танцевальной лексики балета и получила её одобрение.
Изначально Арипова видела Головня в роли Фабия – одного из двух героев (второго звали Муций), влюблённых в героиню Валерию. Но Головань позволил себе отказаться от предложенной роли и напросился на Малайца. Роль экзотическая и во многом загадочная. Именно Малаец спасает Муция от нанесённых ему в грудь Фабием ударов кинжалом.
– Я всегда стремился попробовать себя в разножанровых ролях, – поясняет Анатолий Головань свой отказ от главной роли. – И тем самым донести до публики непохожесть, своеобразие предлагаемых балетмейстером образов. Я основательно входил в предлагаемые обстоятельства, осваивался в них, может, даже ненадолго вживался. Главным было и есть – сыграть судьбу своего героя.
Балетмейстеры исходили из индивидуальности Голованя, ставили на него. Одна из самых любимых ролей у него – роль Шахрияра в «Тысячи и одной ночи». Хореограф Наиля Назирова ехала в Воронеж из Баку, зная с полной определённостью, что роль Шахрияра принадлежит только Голованю. И он не разочаровал балетмейстера. Как отмечали критики, «артист драматически раскрыл мир восточного правителя, вынес на суд зрительский бурю неистовой, мятущейся души своего героя». А всё потому, как справедливо заметил премьер Большого театра, народный артист СССР Михаил Лавровский, что «Анатолий Головань – идеальный инструмент для хореографа. Он никогда не фальшивит, «не детонирует», не искажает основной пластической мелодии, а, наоборот, обогащает её точными и самобытными интонациями. Его смело можно назвать соавтором балетмейстера, творческим интерпретатором его мысли».
И это не голословное заявление. Михаил Лавровский в своё время ставил «Сильнее золота и смерти» («Нибелунгов») на музыку Вагнера, и роль Короля нибелунгов отдал Анатолию Голованю, который ни в чём не сфальшивил и оказался настоящим королём танца.
* * *
Он очень любит свою дочку Аню, внучку Маргариту, правнука Артёма. Не меньше любит и балетную молодёжь театра. Первых – просто за то, что они есть у него; вторых – за то, что и первых, и за то, что они продолжают его дело.



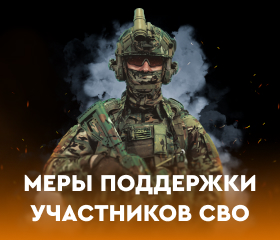

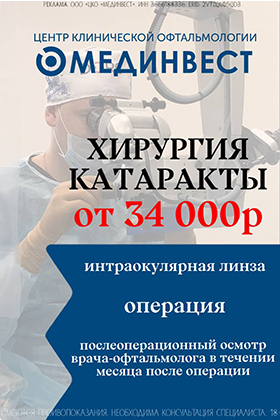








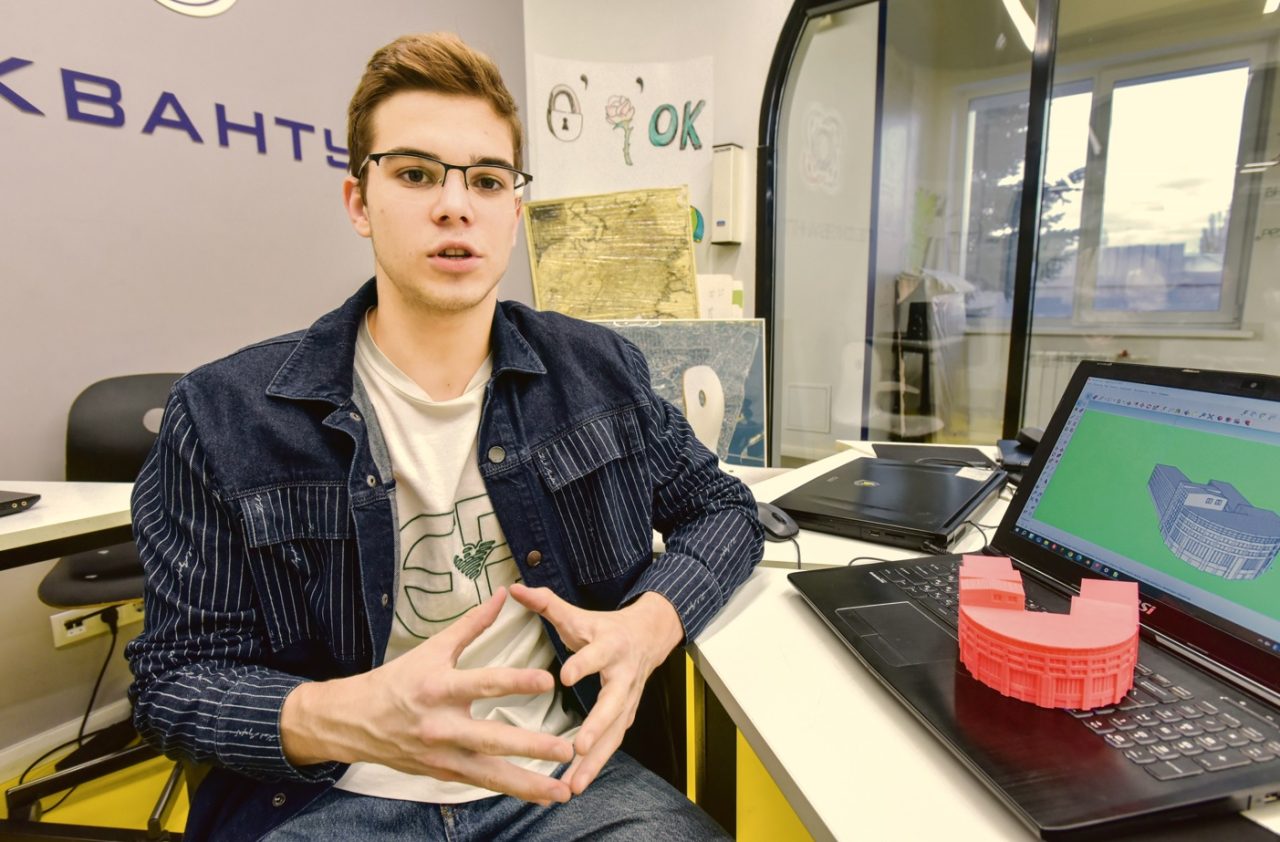
Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных и правилами общения на сайте tv-gubernia.ru. Чтобы отслеживать ответы и реакции пользователей на ваши комментарии, необходимо авторизоваться.